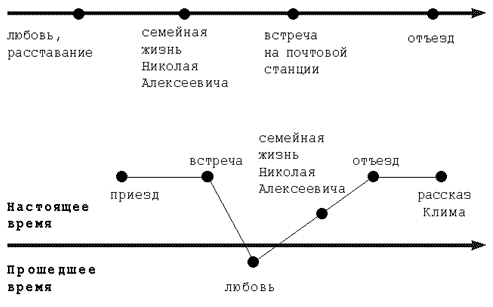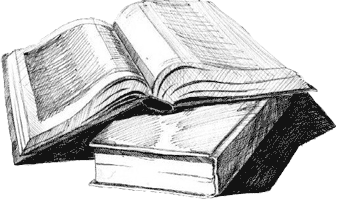 ЧИТАЕМ БУНИНА
ЧИТАЕМ БУНИНА
Господин из Сан-Франциско
Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.
Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.
Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere; 1 входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.
Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.
По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой, сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.
В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, — наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен, — очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятного восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, — его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.
Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, — сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулосъ к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:
— Go away! 2 Via! 3
Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы, шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, Снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.
Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, — деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруццких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.
В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, — уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, — только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсинных деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!
Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фюникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, — несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.
Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...
Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:
— Все, сэр?
И, получив в ответ медлительное «yes» 4, прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».
— Я видел ее на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — ее муж?
— Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель.
И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.
А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:
— Ha sonato, signore? 5
И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:
— Yes, come in... 6
Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.
Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.
— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...
Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?
— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.
— Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско.
И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, — как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.
Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, — прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.
Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, — его больше не было, — а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...
Вошел хозяин. «Già é morto» 7, — сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.
— О нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.
Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...
Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, — оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, — потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.
— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. — Partenza! 8 — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, — и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.
Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:
— Íà sonato, signore?
И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:
— Yes, come in...
А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, — принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, — целую ночь играл в кости в траттории, — и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, — тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.
На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццких горца. У одного под кожаным плащом была волынка, — большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...
Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.
Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...
Октябрь. 1915

1
«Смилуйся» (лат.) — католическая молитва.
2
Прочь! (англ.)
3
Прочь! (итал.)
4
да (англ).
5
Вы звонили, синьор? (итал.)
6
Да, входите... (англ.)
7
Уже умер (итал.)
8
Отправление! (итал.)







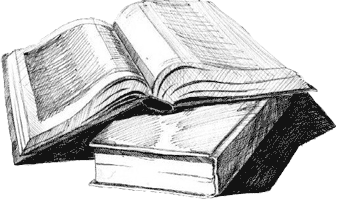 ЧИТАЕМ БУНИНА
ЧИТАЕМ БУНИНА