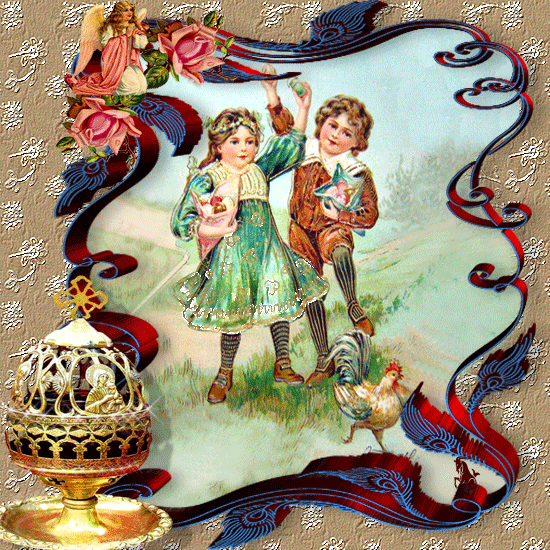Соловьев-Андреевич Е.А. Карамзин. Его жизнь и литературная деятельность (продолжение)
7. "История государства Российского"
Обстановка, среди которой пришлось работать Карамзину, была как нельзя
более подходящей. Материально он был обеспечен и мог не думать о завтрашнем
дне; вторая его жена, Катерина Андреевна, несмотря на свою молодость, не
только не мешала, а даже помогала ему в его занятиях; его здоровье никогда
не бывало особенно крепким, не грозило, однако, никакими серьезными
препятствиями к труду. Целые годы прошли незаметно в разборе рукописей,
изучении архивного материала, писании и корректурах.
Лето 1804 года и следующие он провел в Остафьеве - имении князя
Вяземского, отца своей жены. Погодин, посетивший это, как он выражается,
святилище русской истории, подробно описывает обстановку, окружавшую
историографа. Несколькими строками из его описания мы воспользуемся сейчас
же.
"Огромный барский дом в несколько этажей возвышается на пригорке;
внизу за луговиною блещет обширный проточный пруд; в стороне от него -
сельская церковь, осененная густыми липами. По другую сторону дома -
обширный тенистый сад. Кабинет Карамзина помещается в верхнем этаже, в
углу, с окнами, обращенными к саду. Ход был к нему по особенной лестнице.
В кабинете - голые штукатуренные стены, выкрашенные белою краской,
широкий сосновый стол, в переднем углу под окнами стоящий, ничем не
прикрытый деревянный стул, несколько козлов, с наложенными досками, на
которых раскладены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного
шкапа, ни кресел, ни диванов, ни этажерок, ни пюпитров, ни ковров, ни
подушек. Несколько ветхих стульев около стены в беспорядке -
Все утвари простые,
Вся рухлая скудель:
Скудель, но мне она дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей.
На темном полу, покрытом пылью и сором, сверкали мне в глаза
бриллианты, изумруды, яхонты, крупицы, упавшие от трапезы вдохновенного
писателя!
Вставал Карамзин обыкновенно, по свидетельству князя П. А. Вяземского
в ответ на мои вопросы, часу в 9 утра, тотчас после делал прогулку пешком
или верхом, во всякое время года и во всякую погоду. Прогулка продолжалась
час. Возвратясь с прогулки, завтракал он с семейством, выкуривал трубку
турецкого табаку и тотчас после уходил в свой кабинет и садился за работу
вплоть до самого обеда, т.е. до 3-х или до 4-х часов. Помню одно время,-
пишет князь Вяземский,- когда он, еще при отце моем, с нами даже не
обедывал, а обедал часом позднее, чтобы иметь более часов для своих
занятий. Это было в первый год, что он принялся за "Историю". Во время
работы отдохновений у него не было, и утро его исключительно принадлежало
"Истории" и было ненарушимо и неприкосновенно. В эти часы ничто так не
сердило и не огорчало его, как посещение, от которого он не мог избавиться.
Но эти посещения были очень редки. В кабинете жена его часто сиживала за
работою или за книгою, а дети играли, а иногда и шумели. Он, бывало,
взглянет на них, улыбаясь, скажет слово и опять примется писать".
О ходе своей работы Карамзин довольно часто давал отчет Муравьеву, к
нему же он обращался с просьбами о пособиях, книгах, чинах. Как
историограф, он был немедленно же произведен в надворные советники, к чему
в это время он уже не проявлял равнодушия.
Вступление досталось ему с большим трудом. "Надлежало,- рассказывает
он,- сообразить все написанное греками и римлянами о наших странах от
Геродота до Аммиана Марцеллина, в написанное византийскими историками о
славянах и других народах, которых история имеет отношение к российской".
Радостей ученого Карамзину пришлось испытать много. Случались
счастливые находки, например, Лаврентьевский список летописи, удавалось
постоянно исправлять неточности у Щербатова и Болтина. Но, разумеется, было
немало и разочарований. Главное заключалось в том, что работа затягивалась
и оказывалась неизмеримо труднее, чем предполагал Карамзин. Он надеялся в
шесть лет дойти до воцарения Романовых, а не дошел до этого события, как
увидим, и в двадцать. Находки и открытия часто заставляли его совершенно
переделывать написанное, глаза мешали работать иногда по целым неделям.
Несколько отрывков из писем Карамзина к брату введут нас в его тихую
труженическую жизнь, не лишенную своеобразной поэзии:
От 21 января 1805 г.... "Я продолжаю работать, и думаю, что мне не
отделаться от Киева: надобно будет съездить".
От 26 марта. "Работа моя идет медленно. Пишу второй том, еще о
временах Рюрика. Если Бог продолжит ко мне свою милость, то к зиме могу
начать третий. Несмотря на то, что многими книгами пользуюсь даром, я
должен еще издерживать немало денег на покупку иностранных книг".
Июня 13... "Теперь мы живем в деревне, где, по своему обыкновению, я
много работаю и читаю, хотя не могу быть совершенно доволен своим
здоровьем".
Сентября 28... "Вообразите, что с исхода июля по сейчас я еще не
принимался за перо для продолжения своей "Истории", и теперь еще не пишу.
Это мне прискорбно; но я радуюсь своим выздоровлением, как ребенок. В
некоторые минуты болезни казалось мне, что я умру, и для того, несмотря на
слабость, разобрал все книги и бумаги государственные, взятые мною из
разных мест, и надписал, что куда возвратить. Ныне гораздо приятнее для
меня снова разобрать их. Жизнь мила, когда человек счастлив домашними и
умеет заниматься без скуки".
Ноября 20. "Болезнь послужила мне, кажется, к добру. Теперь я, слава
Богу, очень доволен своим здоровьем и, желая сохранить его, работаю менее".
"Вы желаете знать, любезнейший брат, как я далек в своей "Истории":
оканчиваю II том и дошел до введения Христианской веры".
Через три года Карамзин добрался до нашествия татар, дальше работа
пошла легче и самый материал был интереснее и легче подвергался
литературной обработке, хотя география и хронология продолжали требовать
усиленного и кропотливого труда.
Ступивши раз на путь почестей и карьеры, Карамзин уже не сходил с него
до самой смерти. В 1809 году он был представлен Великой Княгине Екатерине
Павловне и стал пользоваться особенным ее расположением. Чтобы иметь его
поближе к себе, она предложила даже ему тверское губернаторство, но он
отказался, ответив, что будет или дурным историком, или дурным
губернатором. Милости двора, ордена и ленты, получаемые Карамзиным,
возбуждали зависть. Дело не обходилось без доносов. Вот образчик этой
мерзости, характерной прежде всего потому, что даже такой человек, как
Карамзин, не мог от нее отделаться:
"Имея столь верный случай, решился писать к B.C... и о том, чего бы не
хотел вверить почте. Ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели, не могу
равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г-на
Карамзина; вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинского
яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще более голову, ибо
его сочинения одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом, его
сопровождавшим. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для
потомства. Государь не знает, какой гибельный яд в сочинениях Карамзина
кроется. Оные сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оные
рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и
безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не
хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь. Вы не по имени Министр
Просвещения, вы - муж ведающий, что есть истинное просвещение, вы - орудие
Божие, озаренное внутренним светом и подкрепляемое силою свыше; вас без
всякого искания сам Господь призвал на дело его и на распространение его
света; в плане неисповедимых судеб его вы должны быть органом его истины,
вопиющим противу козней лукавого и его проклятых орудий. И вы, и я дадим
ответы пред судом Божьим, когда не ополчимся противу сего яда, во тьме
пресмыкающегося, и не поставим оплота сей тлетворной воде, всякое
благочестие потопить угрожающей. Ваше есть дело открыть Государю глаза и
показать Карамзина во всей его гнусной наготе, яко врага Божия, и врага
всякого блага и яко орудие тьмы.
Я должен сие к вам написать, дабы не иметь укоризны на совести; если
бы я не был Попечитель, я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи,
что Богу дам ответ за вверенное мне стадо, как я умолчу пред вами, и
начальником моим, и благодетелем. Карамзина превозносят, боготворят! Во
всем Университете, в пансионе читают, знают наизусть, что из этого будет?
Подумайте и полечитесь о сем. Он целит не менее, как в Сиесы или в первые
Консулы,- это здесь все знают и все слышат".
Подчеркнутая фраза особенно мила!
В 1812 году Карамзин вместе с Россией видел пожар и разорение Москвы.
Несмотря на наши поражения, он предвидел падение Наполеона, и предчувствие
не обмануло его. "У Наполеона,- говорит он,- все движется страхом,
насилием, отчаянием; у нас все дышит преданностью, любовью, единодушием".
Там сбор народов, им угнетаемых и в душе его ненавидящих, здесь - одни
русские. Мы дома, он как бы отрезан от Франции. Сегодня союзники Наполеона
за него, а завтра они все будут за нас..."
В 1813 году Карамзин вновь взялся за историю и наконец в 1816 году,
закончив первые 8 томов, приступил к печатанию их.
Хороша ли история Карамзина? Оправдывает ли она вековую (почти) славу,
которой пользуется автор? Посмотрим, прежде всего, как была встречена
история современниками.
Двор был доволен, Карамзин получил аудиенцию у Государя и "был осыпан
ласками и милостями". Вдовствующая императрица Мария Федоровна прислала ему
перстень со своим портретом. Королева Вюртембергская написала ему лестное
письмо. Высшее общество было заинтересовано. "Я,- рассказывает Стурдза,-
встретил в первый раз Карамзина в гостиной Софьи Петровны Свечиной; он
читал нам вслух блистательный отрывок из своей "Истории", а именно сказание
о Дмитрии Донском; я внимал ему в толпе слушателей, отчасти любопытных,
отчасти не доверявших его учености и таланту. Сквозь легкомыслие, вежливое
лицемерие некоторых проглядывало глубокое, иногда забавное изумление. Эти
домашние чтения повторялись во многих почетных семьях; везде сыпались на
автора похвалы, которые он принимал без услады и восторга, просто, с
неподражаемым добродушием".
Большая публика раскупила 3 тысячи экземпляров "Истории" в 25 дней,
несмотря на высокую цену - 45 рублей за экземпляр.
Успех был, по-видимому, полный, однако небольшая интеллигентная часть
общества была против "Истории". Один из них, H. M., например, написал
записку, ходившую по рукам и начинавшуюся словами: "История принадлежит
народам" - в противоположность заключению Карамзина в посвятительном
письме: "История народа принадлежит Царю". Тогда же по поводу "Истории"
начался в миниатюре знаменитый по нынешним временам спор о непротивлении
злу. Карамзин писал между прочим: "Но и простой гражданин должен читать
"Историю". Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с
обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях,
свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали ужаснейшие, и
государство не разрушалось".
H. M. возражает:
"Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного; но
история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать
нас в нравственный сон квиетизма? В том ли состоит гражданская добродетель,
которую народное бытописание воспламенить обязано? Не мир, но брань вечная
должна существовать между злом и благом; добродетельные граждане должны
быть в вечном союзе против заблуждений и пороков. Не примирение наше с
несовершенством, не удовлетворение суетного любопытства, не пища
чувствительности, не забавы праздности составляют предмет истории. Она
возжигает соревнование веков, пробуждает душевные силы наши и устремляет к
тому совершенству, которое суждено на земле. Священными устами истории
праотцы взывают к нам: "Не посрамите земли Русской!"
Надо согласиться, что все возражения попадали не в бровь, а прямо в
глаз. Приводя, например, мнение Карамзина, что "в истории красота
повествования и сила есть главное" - он говорит: "Мне кажется, что главное
в истории есть дельность оной. Смотреть на историю единственно как на
литературное произведение - уничижать оную". Но ведь дельности-то прежде
всего и нет у Карамзина.
Одним из важнейших нравоучений "Истории" Карамзин считал то, что она
рассказывает нам, "как искони мятежные страсти волновали гражданское
общество и какими способами благотворная власть обуздывала их бурное
стремление..."
Смело, но вполне в духе времени увлекавшийся народовластием, H. M.
отвечает:
"Какой ум может предвидеть и объять волнения общества? Какая рука
может управлять их ходом? Кто дерзнет в высокомерии своем насильствами
учреждать и самый порядок? Кто противостанет один общему мнению? Мудрый и
добродетельный человек не прибегнет в таких обстоятельствах ни к ухищрению,
ни к силе. Следуя общему движению, благая душа его будет только направлять
оное уроками умеренности и справедливости. Насильственные средства и
беззаконны, и гибельны; ибо высшая политика и высшая нравственность - одно
и то же. К тому же существа, подвергнутые страстям, вправе ли гнать за
оные? Страсти суть необходимые принадлежности человека и орудия Промысла,
непостижимого для ограниченного ума нашего. Не ими ли влекутся народы к
цели всего человечества? В нравственном, равно как и физическом мире
согласие целого основано на борении частей".
Для М. смысл истории - борьба, развитие, стремление к прогрессу, для
Карамзина - порядок и благотворное обуздание мятежных страстей.
Пушкин написал на "Историю" эпиграмму:
Послушайте меня, я сказку вам скажу,
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и время золотое,
И наконец про Грозного Царя.
И, бабушка, затеяла пустое:
Докончи нам Илью-богатыря.
Канцлер Румянцев был очень недоволен Карамзиным за то, что тот
проводит взгляды "contraires aux idees liberales", т.е. взгляды, противные
либеральным идеям.
Нельзя поэтому говорить, что Карамзина не поняли. Напротив, к его
труду отнеслись с полною независимостью и прежде всего были недовольны, что
он дал историю государства, князей, правительства - не народа. Его риторика
подкупала и подчиняла массу, но были люди, искавшие дельности. Карамзин
хотел учить людей путем истории любви к добродетели и вселять в них
отвращение к пороку. Но не тому хотели учиться у истории передовые его
современники: они искали в ней уроков политической и гражданской свободы, а
вместо этого Карамзин с воодушевлением методистского пастора говорил им:
"Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром, совестью и
доверенностью к Провидению. Свободу дает не Государь, не парламент, а
каждый из нас самому себе, с помощью Божией".
Эти проповеди претили многим.
Спросим себя теперь, что мы можем требовать от истории и какую историю
можем мы признать удовлетворительной?..
До сих пор с некоторым колебанием решаются ответить утвердительно на
вопросы: можно ли назвать наукой изучение исторической жизни человечества?
может ли процесс истории по его сущности сделаться предметом обособленной
науки?
На это готовы ответить отрицательно, во-первых, те, которые видят в
истории лишь более или менее искусный доклад о фактах, какими они были, и
не пытаются даже понять совокупности событий, где случайность играет
громадную роль, а сложность побуждений так велика, что научные приемы
кажутся неприложимыми к точному анализу этих событий; там же, где
отказываются от понимания и ограничиваются перечислением, может быть
накопление знаний, но, конечно, нет науки.
На поставленные вопросы отрицательный ответ может получиться и из
лагеря романтиков истории, которые ожидают от последней лишь воскрешения
прошлых эпох в их конкретной особенности. Романтизм заключает в себе
существенным элементом требование внести во все области жизни и мысли
задачи искусства и перестроить ту и другую по типу эстетического
творчества. Совершенно понятно, что он поставил истории ту же задачу.
Воскрешение прошлого тем полнее достигает совершенства, чем более в
воображении писателя обособляется каждая эпоха от того, что ей
предшествовало, и от того, что за нею следовало. Оно будет тем совершеннее,
чем полнее и нераздельнее сливаются в гармонический образ все элементы
эпохи: и полусознательные привычки, и работа критической мысли, и то, что
она унаследовала от прошлого, и то, что готовилась передать будущему. Это
художественное воскрешение может, наконец, совершиться тем удобнее, чем
лучше удается историку-артисту посмотреть на эпоху ее современника, для
которого оценка важного и неважного, существенного и второстепенного
определяется привычками жизни. Таким образом, может получиться
замечательное произведение искусства. Но оно может быть научно лишь помимо
воли автора, так как научная задача понять эпоху заключает иные требования:
именно связь эпохи с прошлым и будущим должна быть понята; необходимо
отделить элемент прошлого и будущего, соединенные в ней, необходимо оценить
ее явления с точки зрения передовых требований того времени, когда живет
историк. Историки-воскресители в своих созданиях, которые могут быть так же
бессмертны, как бессмертны все замечательные произведения искусства, дают
бесценный материал для истории науки, но она от своих деятелей требует
иного. Чего же?
1. Прежде всего строгой критики при пользовании фактами. Без этой
почвы исторического знания не существует и не может появиться научной
истории.
2. Установление необходимой связи и зависимости последующего от
предыдущего, с указанием, что именно в данную эпоху является пережитком
прошлого и залогом будущего. Пока для какого-нибудь периода более или менее
крупное новое общественное явление представляется нам возникшим как бы
случайно, поражая своею неожиданностью, до тех пор этот период остается вне
научной истории, а принадлежит лишь к области описательного ее
подготовления.
3. Отделение существенных элементов развития от несущественных. Вопрос
этот решается просто, если допустить, что в истории двигателем развития
является мысль человека, перерабатывающая общественные формы сообразно со
своими требованиями. Раз нет деятельности мысли - нет истории. Но мысль
действует не в пустом пространстве, ее окружают формы общежития, церковное
и государственное устройство, экономические условия и т. д. Историк должен
изучить эти формы, указать на их отношение к мысли и влияние мысли на них.
Что заставило их победить или сойти со сцены? Годятся ли они для
осуществления общечеловеческого счастья или нет?
Вот вопросы историка.
Карамзин не ставит себе ни одного из них, не отвечает ни на один из
них. Прежде всего он смотрит на историю как на литературное художественное
произведение, на своего рода поэму. "Изложение - это главное",- говорит он.
Сделавшись историографом, он не изменил своим привычкам журналиста и автора
повестей. Он действует на читателя музыкою своих фраз, трогательностью
своих описаний. Он рисует, но не убеждает. Возьмите, например, следующее
место и посмотрите, как ничтожно содержание громких фраз, наполняющих его:
"Отселе История наша приемлет достоинство истинно Государственной,
описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния Царства,
приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает с нашим
подданством; образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии,
которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их
системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое
особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу
отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости, но правительство уже
действует по законам ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства,
призываются искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских;
посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым, посольства
иноземные одно за другим являются в нашей столице. Император, Папа, Короли,
Республики, Цари Азиатские приветствуют Монарха Российского, славного
победами и завоеваниями от пределов Литвы и Нова-Города до Сибири.
Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия. Италия
дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается
великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными
руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание блестящей
истории Иоанна III, который имел редкое счастие властвовать 43 года и был
достоин оного, властвуя для величия и славы России".
По поводу этих строк Погодин умиленно восклицает: "Неужели это не
музыка? Какая стройность, полнота, благозвучие, величие и т.д.". Но
неужели, спросим мы себя, это история? А ведь подобные места заполняют
целые тома...
Истории мысли у Карамзина совершенно нет. Он не пользуется
литературными памятниками, он весь поглощен портретной галереей князей и
царей, их добродетелью или пороками; он преподает нам уроки нравственности
и мотив: "сколь любезна добродетель" - слышен на каждой его странице.
Необходимой связи событий нет у Карамзина. Мудрость правителей -
единственная сила, которая создает, регулирует события. По мудрости Андрея
Боголюбского столица была переведена на север; по мудрости Калиты и его
потомков создалось Московское государство; по храбрости Донского было
свергнуто монгольское иго. История обратилась в биографию, биография в
большинстве случаев - в оды Пиндара.
Надо удивляться терпению Карамзина, с каким он разбирается среди
бесчисленных Всеволодов, Иванов, Мстиславов, не пропуская никого, чтобы не
приголубить или не укорить каждого из них. Один является мужественным,
другой - храбрым, третий - богобоязненным, потом следуют вероломные,
коварные, чадолюбивые, невоздержанные и т.д.
Все это по преимуществу упражнение в стиле, так как для большинства
своих характеристик Карамзин не имел ровно никакого основания. Но такое
раскрашивание входило в его программу. "Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон - вот
образцы,- пишет Карамзин и продолжает: - Говорят, что наша история сама по
себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант.
Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора,
Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания
не только русских, но и чужестранцев. Родословные князей, их ссоры,
междоусобия, набеги половцев - не очень любопытны, соглашаюсь, но зачем
наполнять ими целые тома? Что не важно, то сократить, но все черты, которые
означают свойства народа русского, характер наших древних героев, отменных
людей, происшествия действительно любопытные, надо описать живо,
разительно".
Карамзин смотрел на свою работу прежде всего как беллетрист и
литератор. Вот и еще одно из любопытных его признаний.
"Галерея наша,- говорил он,- открылась бы Ольгою и Гориславою, а
средние времена представили бы нам изображение греческой княжны Софии,
супруги князя Иоанна (которой Россия обязана первыми искрами просвещения);
матери царя Ивана Васильевича, имевшей слабости, но весьма умной; первой
супруги его, прекрасной и любезной Анастасии; Марии Годуновой, которой
добродетель обуздывала иногда Бориса в жестокостях его подозрительного
характера, и трогательной, невинной Ксении. Правда, что русские летописцы,
в которых должно искать материалов для сих биографий, крайне скудны на
подробности; однако ж ум внимательный, одаренный историческою догадкою,
может дополнить недостатки соображением, подобно как ученый любитель
древностей, разбирая на каком-нибудь монументе старую греческую надпись по
двум буквам... угадывает третью, изглаженную временем, и не ошибается...
Новейшая Русская История имеет также своих знаменитых женщин: наименуем из
них Наталию Кирилловну... Софию... Екатерину I. Не знаю, дозволит ли
политика в наше время философу-историку свободно и торжественно судить
царствования Анны и Елисаветы, но умный живописец-автор может в легких
чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без лести.
Наконец не на одном троне, сочинитель должен искать лиц для исторических
портретов: он вспомнит, например, сию графиню Головкину, которая
добровольно променяла столицу на Сибирь и год жила в землянке с мертвым
телом супруга. Такое геройство супружеской любви давно бы прославлено было
в целом свете, если бы русские умели и любили хвалиться добродетелями
русских".
Смысл этих строк ясен: фактов мало, те, которые есть, не особенно
интересны, но если "раскрасить" и разгадывать целые подписи по двум
уцелевшим буквам, то такую историю не совестно будет показать даже
иностранцам.
По поводу указанного излюбленного приема Карамзина у г-на Милюкова
вырывается немало жестких слов.
"Итак,- говорит он,- не историческое изучение, не разработка сырого
материала истории, а художественный пересказ данных, уже известных,- вот та
заманчивая задача, которая рисовалась перед воображением Карамзина до
начала работы. "Нет предмета столь бедного, чтобы искусство уже не могло
ознаменовать себя приятным для ума образом",- повторяет Карамзин. Под
"бедным предметом" надо разуметь здесь русскую историю, а приятно
ознаменует себя в этом предмете "История государства Российского".
На самом деле, у Карамзина искусство на каждой странице приятно себя
знаменует; что же касается до установления необходимой связи события - то в
этом случае дело обстоит далеко не так благополучно. Чтобы не быть
голословным, возьмем несколько характерных примеров. Роль народа в
"Истории" Карамзина почти такая же, как в патриотических драмах. Народ
является на сцену и начинает галдеть без всякого толку. На ступенях крыльца
показывается "великий муж", сердце которого пылает любовью к отечеству. Муж
произносит несколько слов, и народ с криком: "идем, бежим!" немедленно же
устремляется, куда ему указано. Карамзин не только не заинтересовался
народом, но даже психология московской толпы, игравшей такую роль при Елене
Глинской, Иване Грозном, Федоре Годунове, Лжедмитрии, Шуйском,- разработана
у него по-лубочному. А ведь в то время толпа устраивала то и дело суды
Линча над нелюбимыми ею людьми. Могущество ее чувствовалось при Михаиле
Федоровиче, Алексее, Софии и было уничтожено лишь Петром Великим. Не видеть
исторической роли московской толпы в XVI и XVII веках - значит страдать
значительною близорукостью. Роль была сыграна, роль большая, серьезная, но
у Карамзина везде великие мужи, а толпа только галдит, как в знаменитой
сцене избрания Годунова у Пушкина, написанной почти дословно по Карамзину.
Наш историограф быстро успокоился на мнении, что славяне смиренномудры и
кротки, и отказался приписать им, когда бы то ни было, активную роль в
истории.
Без внимания к народу, его поэзии, его религиозным исканиям, без
исследования промышленности, торговли и финансов - можно ли установить
какую-нибудь необходимую связь между событиями?
Даже как психолог Карамзин делает громадные скачки. Каким образом
добродетельный Иван IV его VIII тома становится сразу кровожадным тираном
IX? Историк утверждает, что это чудо. Чудеса же, как известно, никакому
анализу не подлежат.
Мне кажется, что после сказанного можно признать "Историю" Карамзина
почти непригодной для нашего времени. Значительно мягче должны мы будем
отнестись к ней, перенесясь за 80 лет назад.
Хотя Карамзин и преследовал главным образом литературные цели, однако
чисто научная работа постепенно увлекала и его. Мы уже видели, что он
сделал несколько важных открытий и ознакомил науку со многими новыми
документами. Он же исправил массу неточностей у своих предшественников.
Вся его важная работа изложена в примечаниях, занимающих добрую треть
всего сочинения.
"Нет никакого сомнения,- пишет г-н Милюков,- что Карамзин приступил к
своему историческому труду без предварительной специально-исторической
подготовки. Тем, чем он стал, как критик и ученый, он сделался уже во время
самой работы, и конечно первенствующая роль в этой выучке принадлежит
немецкой школе. На первых же порах Карамзин столкнулся с авторитетом
Шлецера, ученые приемы которого должны были оказать на него самое
решительное влияние. Можно проследить, как совершенствуются технические
приемы Карамзина под влиянием немецкого образца, шаг за шагом
контролирующего его собственную работу.
Его примечания оставляют вообще несомненно более выгодное впечатление,
чем сам текст "Истории", и это объясняется не столько критическим талантом
автора, сколько его ученостью. В этом отношении надо отдать справедливость
историографу: он усердно хлопотал о подборе новых исторических материалов,
в значительной степени обновил фактическое обоснование рассказа и надолго
сделал свою "Историю" необходимою для всякого исследователя хрестоматией
источников русской истории".
Самая риторика Карамзина, которая так отталкивает нас, принесла долю
пользы и заставила раскупить 3 тысячи экземпляров в 25 дней,- факт, до той
поры неслыханный.
Но не надо забывать в то же время, что взгляды Карамзина были
значительно ниже, старообразнее взглядов многих и многих его современников.
Его взгляды оказываются официальными, и, следовательно, ценность их
относительна.
8. Гражданские убеждения Карамзина. Последние годы его жизни
Я уже упоминал выше об отношениях Карамзина к Великой княгине
Екатерине Павловне, впоследствии королевы Вюртембергской. По ее просьбе он
написал свою знаменитую "Записку о древней и новой России", обсуждение
которой заставляет нас вернуться несколько назад, именно к 1811 году. В это
время при дворе господствовало еще либеральное настроение, хотя мрачное и
злое лицо Аракчеева все чаще и чаще начинало появляться в кабинете
государя. Но Сперанский был еще в силе, хотя все его коренные проекты
лежали под спудом и составляли предмет лишь платонического внимания. В
это-то время Карамзин представил свою "Записку" Великой княгине, а через
нее - самому государю.
Есть основание полагать, что Карамзин был только отголоском общего
московского мнения о новых и постоянных преобразованиях царствования
Александра и редактором стародворянской, противной Сперанскому партии.
Взгляды Карамзина в "Записке" на самом деле стародворянские, немного даже
славянофильские. С ними стоит ознакомиться поближе.
Заметив, что настоящее бывает следствием прошедшего, Карамзин
приглашает императора обратиться к этому прошедшему и посмотреть, какие
уроки премудрости преподает оно. Первый урок тот, что уже в девятом и
десятом столетиях Россия была самодержавной страной, обильной, великой и
славной благодаря крепкой и единой власти князя. Рюрик, Олег, Святослав,
Владимир - не князья-дружинники, не предводители смелых ватаг авантюристов,
а самодержцы во вкусе XV и XVI столетий. "Они заплатили своим подданным
славою и добычею за утрату прежней вольности, бедной и мятежной". Карамзин
забывает дружину, забывает, что такой храбрый генерал, как Святослав, уже
по самому характеру своему не мог быть гражданским царем, и возвращается к
точке зрения Ломоносова, Эмина, Екатерины II, которые в каждом Всеволоде,
Мстиславе или Изяславе видели чуть ли не византийского императора. усилиями
упомянутых первых самодержцев Россия стала не только обширным, но, в
сравнении с другими, и самым образованным государством. К несчастию,
однако, она разделилась. "Открылось жалкое междоусобие малодушных князей,
которые, забыв славу и пользу отечества, резали друг друга и губили народ,
чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу". Попытки
восстановить единодержавство были слабы, недружны, и Россия в течение двух
веков "терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственные".
"Удивительно ли,- спрашивает Карамзин,- что при таких обстоятельствах
варвары покорили наше отечество?" Положение дошло до того, что, казалось,
Россия погибла навеки. Но - "сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV
века, от презрения к его маловажности, возвысил главу и спас отечество - да
будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась и созрела мысль
восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита есть
родоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира".
Начался процесс собирания земель. Но "глубокомысленная политика князей
московских не удовольствовалась собиранием частей в целое: надлежало еще
связать их твердо, и единовластие усилить самодержавием, т.е. искоренить
все следы прежнего "вольного духа". Московские князья с успехом выполнили и
эту задачу. Что же представляла из себя Россия, завещанная московскими
князьями своим преемникам?
"Самодержавие укоренилось; никто, кроме государя, не мог ни судить, ни
жаловать - всякая власть была излиянием монаршим. Жизнь, имение зависели от
произвола царей, и знаменитейшее в России титло было уже не княжеское, не
боярское, но титло слуги царева. Народ, избавленный князьми московскими от
бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних
вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием
не спорил о правах; одни бояре, столь некогда величавые в удельных
господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство или казнь их
свидетельствовала бодрость оного. Наконец царь сделался для всех Россиян
земным Богом".
Преступление Бориса задержало торжественное развитие самодержавства и
повело к ужасам Смутного времени. Эти ужасы были тем "ужаснее", что
"самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных
несправедливостей или заблуждений государя".
Для вторичного спасения отечества нужно было новое чудо, и оно явилось
сначала в образе Минина и Пожарского, потом - Михаила Федоровича.
Самодержавие, уничтожив врагов внешних и внутренних, принялось за
устройство государства. Для него, значительно уже выросшего, потребовались
новые формы и большая часть их была заимствована у Европы: "Вообще,-
говорит Карамзин,- царствование Романовых - Михаила, Алексея, Федора -
способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях,
так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от
принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще
предки наши усердно следовали своим обычаям; но пример начинал действовать,
и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в
воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или
учения, в самом светском обхождении. Сие изменение делалось тихо,
постепенно, едва заметно, как естественное возрастание без порывов и
насилия: мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое
соединяя со старым".
В последних строках уже скрывается осуждение царствований Петра I и
Екатерины II. На самом деле, к деятельности Петра Карамзин относится
довольно скептически: очевидно, что к этому времени он успел совершенно
отделаться от юношеского энтузиазма, который возбуждала в нем когда-то
могучая личность Преобразователя.
"Страсть к новым для нас обычаям,- говорит он,- переступила в нем
границу благоразумия: Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный
составляет нравственное могущество государства, которое подобно физическому
нужно для их твердости. Государь России унижал россиян в собственном их
сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к
великим делам? Предписывать уставы обычаям есть насилие беззаконное и для
самодержавного Монарха... Честью и достоинством россиян сделалось
подражание"...
Все эти изречения являются несомненно во вкусе будущих славянофилов.
Второе вредное действие Петра,- продолжает Карамзин,- заключалось "в
отделении высшего сословия от низшего". Но чем? Оказывается, не крепостным
правом, впервые оформленным при Петре, а одеждою и наружностью. "Русские
земледельцы,- пишет историограф,- мещане, купцы увидели немцев в русских
дворянах, ко вреду братского единодушия (которого, кстати сказать, никогда
не было) государственных состояний".
Третье - "ослабление связей родственных, приобретение добродетелей
человеческих насчет гражданских. Имеет ли для нас имя русского ту силу
неисповедимую, какую оно имело прежде?"
Наконец, блестящею ошибкою Петра Карамзин называет основание столицы в
Петербурге.
Не пощадил историограф и Екатерины II.
"Блестящее царствование Екатерины,- пишет он,- представляет взору
наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и
хижинах: там от примеров двора любострастного,- здесь от выгодного для
казны умножения питейных домов. Пример Анны и Елизаветы извиняет ли
Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет
единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная -
порок, ибо соблазняет других. Само достоинство Государя терпит, когда он
нарушает устав благонравия; как люди ни развратны, но внутренне не могут
уважать развратных. Требуется ли доказательств, что искреннее почтение к
добродетелям Монарха утверждает власть его? Горестно, но должно признаться,
что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно
вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество".
"Заметив еще, что правосудие не цвело в сие время; вельможа, чувствуя
несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в кабинет; там
засыпало оно и не пробуждалось".
"В самих государственных учреждениях Екатерины видим более блеска,
нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но
красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губернии, изящное на
бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: "мои
законы не совершенные, но лучшие для Афинян". Екатерина хотела
умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем
действии оных; дала нам суды, не образовав судей, дала правила без средств
исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись
при сей Государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием; двор забыл язык
русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство задолжало; дела
бесчестные, внушаемые корыстолюбием, для удовлетворения прихотям, стали
обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги
и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были
академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские
люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая Монархиня; не
было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской
жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно. Вельможа
не стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами. Екатерина -
великий муж в главных собраниях государственных - являлась женщиною в
подробностях Монаршей деятельности, дремала на розах, была обманываема или
себя обманывала; не видела или не хотела видеть многих злоупотреблений,
считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим успешным, славным
течением ее царствования".
После этой поистине смелой характеристики Карамзин обращается к
царствованию Александра I и, по обычаю всех охранителей, начинает прежде
всего пугать.
Россия, говорит он, наполнена недовольными; жалуются в палатах и
хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают
его цели и меры. Такое состояние умов Карамзин объясняет, между прочим, и
важными ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрым намерением
ошибаться в средствах добра. Важные же ошибки следующие:
"...Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем
уважении форм государственной деятельности: от того изобретение разных
Министерств, учреждение Совета и проч." Карамзин не хочет ни знать, ни
понять, что если реформы Сперанского остались чисто бумажными,
недоделанными, то виноват в этом совсем не реформаторский принцип, а
двойственность политики Александра I, который горячо желал всего лучшего и
боялся сделать решительный шаг. В то время как Карамзин писал свою
"Записку", участь Сперанского, а значит и всех преобразований, была уже
решена. Мрачная фигура Аракчеева все чаще стала показываться во дворце
Александра I. Государя пугали со всех сторон, пугал и Карамзин.
Он зло смеется над министерствами, советами, вообще формами
государственной жизни, установлением которых Сперанский думал уничтожить
возможность всякого произвола, но что сам может он предложить взамен?
Сначала - нравоучение, потом и нечто более серьезное.
Нравоучение таково: "спасительными уставами бывают единственно те,
коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать,
предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное
зло: учреждение министерств и совета имело для всех действие внезапности".
Более серьезное соображение изложено в следующих строках: "Но да
будет,- восклицает Карамзин,- правило: искать людей! Кто имеет доверенность
Государя, да замечает их вдали для самых первых мест. Не только в
республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно
по способностям. Всемогущая рука Единовластителя одного ведет, другого
мечет на высоту; медленная постепенность есть закон для. множества, а не
для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или
в секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостию или
бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает перед лицом
достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением наказа; тогда
образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их
предложения; но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость
рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди! Но
люди не только для министерства или сената, но и в особенности для мест
губернаторских. Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или
более частей, называемых губерний: если там пойдут дела как должно, то
министры и совет могут отдыхать на лаврах, а дела пойдут как должно, если
вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно
станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают
хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят
правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность,
сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят
делать того, виною худое избрание лиц; если не имеют способа - виною худое
образование губернских властей".
Дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных и
добросовестных, и эти-то 50 людей, их деятельность представлялась Карамзину
панацеей от всех зол. Они должны были искоренить вековое хищничество,
неправду в судах, жестокие, кровожадные нравы в поместьях. Дайте 50
человек, и довольство воцарится в палатах и хижинах, промышленность и
торговля расцветут, казна окажется богатой и неприкосновенной.
Однако всякий, кто подумает, что Карамзин был особенно встревожен
учреждением министерств и совета, тот сильно ошибется. Суть не в этом, а в
другом, более существенном, и это другое, более существенное - желание
сохранить во всей незыблемости и неприкосновенности крепостное право.
"Так нынешнее правительство,- пишет Карамзин,- имело, как уверяют,
намерение дать свободу господским людям". Возможно ли это? По мнению
историографа, "освобождение крестьян с землею было бы прямым беззаконием,
так как: 1) нынешние господские крестьяне никогда не были владельцами, т.е.
не имели собственной земли, которая есть законная неотъемлемая
собственность дворян; 2) крестьяне холопского происхождения - также
законная собственность дворянская и не могут быть освобождены лично без
особенного удовлетворения помещика". Карамзин думает далее, что одни
вольные, Годуновым укрепленные за господами, земледельцы могут, по
справедливости, требовать прежней свободы, которой, однако, им давать не
следует, ибо "мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и
которые от вольных людей".
Словом, куда ни кинь, все клин. Возможность разрубить гордиев узел
крепостного права представляется Карамзину не только невероятной, но прямо
ненужной. Он не спрашивает себя, на каких условиях дореформенное дворянство
владело государственными землями, особенно в XVII и 1-й половине XVIII
веков, когда оно являлось в сущности не собственником, а пользователем; не
спрашивает себя и о том, как это возможно, чтобы все крестьяне никогда не
являлись собственниками? Высказав свои исторические аргументы и ничем не
доказав их, Карамзин переходит к аргументам нравственно-политическим, и
что-то близкое, знакомое слышится в его словах: "Уже не завися от суда
помещиков, решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться между
собою и судить в городе - какое разорение! Освобожденные от надзора господ,
имевших собственную земскую исправу или полицию, гораздо деятельнейшую всех
земских судов, станут пьянствовать, злодействовать,- какая богатая жатва
для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и
государственной безопасности".
Припоминая изречение Павла I: "у меня сто тысяч даровых
полицимейстеров" (помещиков), Карамзин продолжает: "теперь дворяне,
рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и
благоустройства: отними у них сию власть блюстительную, он, как Атлас,
возьмет себе Россию на рамена. Удержит ли?.. Падение страшно".
Историограф грозит даже этим, забывая свои собственные блестящие
страницы о кротости и смиренномудрии славян.
"Записка", разумеется, заканчивается панегириком дворянству и в этом
отношении является характерным памятником александровской эпохи, когда
самые заскорузлые старообрядческие мнения переплетались с любезными
меланхолическими порывами сердца и вожделениями европействующих
реформаторов, когда предшественники декабристов - Сперанский и Аракчеев -
по очереди разделяли симпатии государя.
"Самодержавие,- пишет Карамзин,- есть палладиум России: целость его
необходима для ее счастия; из сего не следует, чтобы государь -
единственный источник власти - имел причины унижать дворянство, столь же
древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых
слуг великокняжеских или царских".
Говорят, император остался недоволен "Запиской" и ее реакционным
направлением. В то время в душе Александра совершался переворот, и он
мучился, находясь на распутье между дорогой Сперанского и Аракчеева. Он
успел уже разочароваться во многих из гуманных и свободолюбивых грез своей
юности, но ему не хотелось сразу переходить на другой тон.
"Записка" Карамзина задела живую рану.
Скажем теперь несколько слов о последних годах жизни прославленного
историографа.
После выхода в свет первых томов "Истории" он жил главным образом в
Петербурге, а летом - в Царском Селе. Его отношения ко двору становились
все ближе, но он не порывал и своих литературных связей; возле него, между
прочим, постоянно находились Пушкин и Жуковский. Впечатления его с этих пор
становятся очень однообразными, а в письмах своих он почти исключительно
сообщает о тех или других знаках милостивого внимания.
Например, он писал к Дмитриеву: "Государь призывал меня к себе и
говорил со мною весьма милостиво о вещах обыкновенных. Увидев меня на бале
в Павловске в Розовом павильоне, тотчас подошел спросить о здоровье жены и
на другой день прислал лакея своего спросить о том же. Это милостиво и
тронуло меня. Императрица также приветлива. Однако ж все еще не знаю,
останусь ли печатать здесь "Историю". Типографщики дорожатся, или не имеют
нужного для такого печатания шрифта. Будет, чему быть надобно; а пора мне
где-нибудь основаться до конца и работать постоянно, без всяких
развлечений". И т.д., все в том же роде.
В 1819 году он принялся за IX том "Истории". Опять пошли хлопоты о
разыскивании материала,- о том, как доставать нужные книги. Любимая работа
вступила в свои права и вновь подчинила себе жизнь и помыслы человека.
Несомненно, что за письменным столом Карамзин провел много счастливых
часов. Близость ко двору скорее льстила его тщеславию, чем приносила
нравственное удовольствие. Он чувствовал себя не совсем уютно в парадных
комнатах. Ему недоставало остроумия, находчивости, он всегда держал себя
слишком серьезно. К тому же, по его впечатлительности, каждый знак
невнимания или временной холодности раздражал и мучил его. В такие минуты
он писал, например, Дмитриеву:
"Знай, любезнейший, что я ничего не хочу, уже приближаясь к старости.
Полно! Благодарю Бога за то, что имею. Надобно доживать дни с семейством, с
другом и с книгами. Мне гадки лакеи и низкие честолюбцы, и низкие
корыстолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К нему
не лезу и не ползу. Не требую ни конституции, ни представителей, но по
чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского:
вот противоречие, но только мнимое".
Карамзин жил довольно открыто. По вечерам в его роскошной квартире
собиралось обыкновенно немало народа. Жена и дочь постоянно присутствовали
тут же. Впоследствии вдова историографа имела литературно-аристократический
салон - что редко встречается в России.
В 1819 году государь по возвращении своем из-за границы заявил
Карамзину в интимной беседе свое желание восстановить Польшу в ее древних
пределах. Карамзин, по словам Погодина, воспламенился духом и составил
"Записку", где между прочим читаем:
"Можете ли с мирною совестию отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию,
Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не
клянутся ли Государи блюсти целость своих держав? Сии земли уже были
Россией, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и
Екатерины, которую Вы сами назвали Великою. Скажут ли, что она беззаконно
разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали
загладить Ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом:
вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим: ибо все
составлены из завоеваний".
Катков впоследствии прибегал к тем же аргументам.
До 1825 года были написаны еще X и XI тома "Истории" в той же
обстановке и при тех же условиях. Упадка сил он не чувствовал. Напротив,
последние его письма дышат бодростью.
"Любезный друг,- пишет он, например, Дмитриеву в сентябре 1825 года,-
в ответ на милое письмо твое скажу, что о вкусах, по старому латинскому
выражению, не спорят. Я точно наслаждаюсь тихою, уединенною жизнью, когда
здоров и не имею душевной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в
девять утра гуляю по сухим и в ненастье Дорогам вокруг прекрасного,
нетуманного озера, славимого и в "Conversations d'Emilie" (сочинение
Жанлис); в одиннадцатом завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до
двух, еще находя в себе душу и воображение (Карамзин сохранил их до
последней минуты); в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег,
трясусь, качаюсь - и весел; возвращаюсь, с аппетитом обедаю с моими
любезными, дремлю в креслах и в темноте вечерней еще хожу час по саду,
смотрю вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и
нередко крик совы; возвратясь свежим, читаю газеты, журналы... книгу; в
девять часов пьем чай за круглым столом и с девяти до половины двенадцатого
читаем с женою, с двумя девицами (дочерьми) замечательные места из Вальтер
Скоттова романа, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда
жалея, что вечера коротки..."
"Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я со слезами
чувствую признательность к небу за свое историческое дело! Знаю, что и как
пишу; в своем таком восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я
независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и
человечеству. Ну, пусть никто не читает моей "Истории": она есть, и
довольно для меня... За неимением читателей могу читать себе и бормотать
сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить Бога единственно о здоровье
милых и насущном хлебе, до той минуты, "как лебедь на водах Меандра,
пропев, умолкнет навсегда..."
Но дни Карамзина были уже сочтены: он умер 22 мая 1826 года, собираясь
ехать за границу для поправления здоровья. Перед смертью он получил от
императора Николая Павловича именной рескрипт и 50 тысяч рублей пенсии в
год, чем и заключалась его успешная историографическая карьера.

Составление рассказа "Как солнышко ботинок нашло" по серии сюжетных картин.






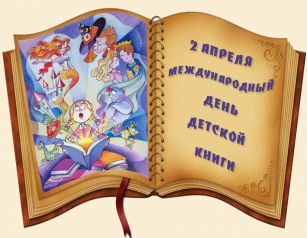

 Вербное воскресенье
Вербное воскресенье