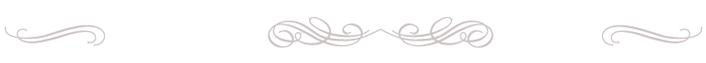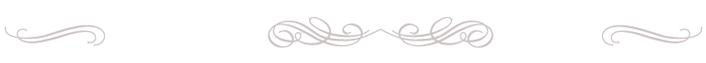Расул Гамзатов
Стихи разных лет
ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
В тот год, когда,
мечтая стать джигитом,
Еще не мог я оседлать коня
И на черкеске,
бабушкою сшитой,
Еще ни разу не носил ремня,
Однажды ночью, с чувством незнакомым
Проснувшись над грядою облаков,
Я написал в тиши родного дома
Две строчки по двенадцати слогов.
Настало утро.
И когда задачу
Решили в классе все ученики,
Листок бумаги под тетрадкой пряча,
Я к тем строкам прибавил две строки.
Но оттого, что мог заметить это
Учитель, презирающий обман,
Я чувствовал себя, как без билета
Сидящий в кинозале мальчуган.
Не торопясь ползли уроки,
будто
Ползла арба на горный перевал,
Но вот она, желанная минута, –
Звонок последний в школе прозвучал.
Класс опустел.
Тропинками аула
Мои друзья шагали по домам,
А я, задвинув двери ножкой стула,
Вернулся к незаконченным стихам.
Шестнадцать строчек написал я вскоре,
Затем исправил старых три строки,
Но в тишине за дверью в коридоре
Вдруг сторожа послышались шаги.
Мне стало страшно,
отчего – не знаю,
Быть может, оттого, что строгий дед
Знал в песнях толк
и был непререкаем
Во всех делах его авторитет.
Но оказался страх совсем напрасен:
Хорошим человеком сторож был.
Махнув рукой,
он мне за партой в классе
До вечера остаться разрешил.
И лишь потом,
удобный выбрав случай,
Он моему отцу решил сказать,
Что я стихи пишу
и что получше
За мной отныне надо наблюдать.
О первое мое стихотворенье!
Негаданно-нежданно ты пришло
И первые на свете треволненья
Мальчишескому сердцу принесло...
Весенней лаской улицы согреты,
Я радостный хожу среди друзей:
Ведь в первомайский номер стенгазеты
Я дал стихи за подписью своей.
Пораньше спать улегся,
а назавтра
Пылают стяги, будто бы костры,
И на стене висит, размером с «Правду»,
Печатный орган школьной детворы.
Вокруг гурьба читателей толпится,
Ведет веселый, шумный разговор.
И кто-то говорит,
что у цадинцев
Поэтом больше стало с этих пор.
Потом в колонну строились все дети.
И, задержавшись в здании на миг,
Я подбежал к висевшей стенгазете
И чуть не поднял от обиды крик.
Кто право дал без ведома поэта
Его стихи жестоко сокращать?!
Со всей, конечно, строгостью за это
Редактор главный будет отвечать!
Я бросился к директору и, плача,
Ему обиду высказал свою.
И, улыбаясь, он рукой горячей
Погладил нежно голову мою.
А вечером, на сцену клуба выйдя,
Я, сверстниками встреченный тепло,
Прочел стихи в несокращенном виде
Притихшей редколлегии назло.
А может, был не прав я
и ребята
Ко мне лишь были чересчур добры?
Легли на годы отсветы заката,
Но каждый раз до нынешней поры
Стремлюсь, друзья, в минуты вдохновенья
Отдать строке в полуночной тиши
Мне памятное первое волненье
И мужество окрепнувшей души.
ТОСТ
Друзья мои, за что мы пить решили,
За что мы первый тост провозгласим?
За солнце. Мы, ей-богу, не грешили,
Своих любимых сравнивая с ним.
Пьем за цветы и за пернатых тоже.
Мне кажется, когда мы влюблены,
То все на них немножечко похожи...
За птиц, конечно, выпить мы должны.
За журавлей, они вдогонку зною
Отсюда улетают каждый год.
Пусть все они вернутся к нам весною,
И пусть удачен будет их полет.
Я тост провозглашаю в равной мере
За всех и певчих и непевчих птиц.
Гусь – не певец, но не его ли перья
Касались звонких пушкинских страниц!
Пью за оленя с гордыми рогами,
Стоящего над каменной скалой,
За то, чтобы, расплющившись о камень,
Упала пуля, пущенная мной.
Я пью за тополь, молодой и тонкий,
В прозрачных капельках дождей и рос,
Чтоб он вперегонки с моим ребенком,
Не зная бурь и суховеев, рос.
Пью за друзей и преданных и честных,
За всех, чья дружба свята и сильна.
За всех за нас и тех, чьи имена
Ни вам, ни мне покуда неизвестны.
За девочку! Я жил с ней по соседству,
Играл, за косы дергал на бегу.
Я эту девочку не видел с детства,
А не мечтать о встрече не могу.
Я пью за молодость и за седины,
За терпеливых женщин наших гор,
Которых многие у нас мужчины
Ценить не научились до сих пор.
Я пью, друзья, за тех, кто был солдатом,
Кто наше счастье отстоял в огне,
Я пью за моего родного брата,
Пропавшего без вести на войне.
За то, чтоб не исчез из жизни след
Друзей, которых с нами больше нет.
За то, чтоб ты, живущий, не забыл
Ни их имен, ни их святых могил.
Я пью за то, чтобы на белом свете
Опять до неба пламя не взвилось.
Я пью, друзья, за то, чтоб нашим детям
Пить за друзей погибших не пришлось.
За то, чтоб в мире было вдоволь хлеба,
Чтоб жили все и в дружбе и в тепле.
Всем людям хватит места на земле,
Как волнам моря и как звездам неба.
Я пью за то, чтоб не из века в век,
За то, чтоб мир был лучше год от году,
За то, чтоб не был малым человек,
Принадлежащий к малому народу.
За то, чтоб люди с гордостью похвальной.
Каков бы ни был их язык и цвет,
Могли писать свою национальность
На бланках виз и на листках анкет.
И пусть вражда народам глаз не застит,
Пусть ложь не затуманит честных глаз.
Короче говоря, я пью за счастье,
Провозглашаю, люди, тост за вас!
СТИХИ О ВРЕМЕНИ
1
Летит по бездорожью, по дороге,
Минуя рубежи веков и стран,
Скакун неукротимый, быстроногий,
И нет на нем узды и нет стремян.
Ему, как дорогому гостю: «Здравствуй», –
Мы говорим с улыбкой на губах,
Себя вопросом мучая не часто:
«Он или мы, кто у кого в гостях?»
Летит скакун, под ним земля трясется,
Вокруг роняет пену конь шальной.
И белый след от пены остается –
Его мы называем сединой.
Летит пустыней он, дорогой людной,
Он сбрасывает всадника и кладь.
Он скачет прочь – за ним угнаться трудно,
Навстречу скачет – не легко поймать.
Мой друг, нельзя нам жить неторопливо,
Свободных дней у нас в запасе нет...
Летит скакун! Схвати его за гриву,
Вскочи ему, упрямцу, на хребет.
2
Годы детства мои,
как я вас не ценил;
Я мечтал, чтоб вы были короче.
Годы детства мои,
как я вас торопил;
Я спешил, вы спешили не очень.
Время, взяв меня за руку, в юность ввело.
И тогда лишь, начав торопиться,
Закрутило, пошло. И теперь, как назло,
Надо мной пролетает, как птица.
Сколько прожито мной?
Тридцать дней? Тридцать лет?
Или тридцать часов? Я не знаю.
Время, стой! Для чего ты торопишь рассвет
И свидания час обрываешь?
До чего ж твой характер на мой не похож!
«Не спеши!» – заклинаю тебя я.
Я когда-то тебя не ценил ни на грош,
Дни свои, как полушки, швыряя.
Ты спешишь. На деревьях желтеет листва,
Хлещут ливни, мутнеют потоки.
И неделю смололи твои жернова:
Я неделю писал эти строки.
Слушай, чертова мельница, короток путь,
Что дано совершить человеку,
Поломать тебя, ось твою, что ли, погнуть,
Перекрыть бесноватую реку?
Не прощая бесцельно прожитого дня,
Ось вращается, время несется, звеня,
С каждым днем все быстрее, быстрее...
Ход часов мы мечтаем замедлить, старея,
Дети время торопят, его не ценя.
3
Сначала время благосклонно к нам
И вместе с молодостью в изобилье
Рукам дарует силу, свет – глазам,
Уму дает мечту и сердцу – крылья.
Оно нам зажигает свет зари,
В весеннем небе зажигает звезды
II каждому из нас твердит:
«Твори!
Дерзай, лети, ты для полета создан!»
И мы творим, летим, но время вдруг
То, что дало, казалось, безвозвратно,
Как скаредный и вероломный друг,
Все начинает брать у нас обратно.
Все отнимает время, как назло,
Все, чем горды мы были, – силу, память.
Берет у нас кинжал, берет седло
И гасит звездный свет перед глазами.
И мы детьми становимся опять,
Лишенные всего того, что было,
И ничего не можем удержать
Мы пальцами, теряющими силу.
Любимая, поток бегущих дней
Все заберет, и спорить с ним напрасно.
Ему не тронуть лишь любви моей:
Ни сам я, ни года над ней не властны.
4
Сегодня поздно я пришел домой,
Все отдыхает, все давно умолкло:
И лампочка, и стол рабочий мой,
И мудрые тома на книжных полках.
Лишь в тишине, пронизывая мрак,
Пульсирует чуть слышное «тик-так».
«Тик-так, тик-так» – мелодия проста,
По жизни с ней уносится частица.
«Тик-так» – и перевернута страница
Той книги, что не очень уж толста.
Не спит, не спит суровый счетовод,
Пусть даже сон давно царит над всеми.
«Тик-так, тик-так» – неспешен этот ход!
«Тик-так» – как быстро пролетает время!
Часы идут,
и тикают, и бьют...
Что сделал ты, прислушиваясь к бою?
Или пришлось вести им счет минут,
Бессмысленно растраченных тобою?!
* * *
Все, что в нас хорошего бывает,
Молодостью люди называют.
Пыл души, непримиримость в спорах,
Говорят, пройдут, и очень скоро.
Говорят, когда я старше буду,
Я горячность юности забуду,
От тревог и от дорог устану,
Говорят, я равнодушным стану.
Сделаюсь спокойным и солидным,
Безразличным к славе и к обидам,
Буду звать гостей на чашку чая,
От друзей врагов не отличая...
Если правда может так случиться –
Лучше мне сегодня ж оступиться,
Лучше мне такого не дождаться –
Нынче ж в пропасть со скалы сорвался!
АПРЕЛЬ
Летят, курлыча, журавли,
Спешат – не опоздать бы, –
У Небосвода и Земли
Апрель – начало свадьбы.
Друзья, поздравим Небосвод
Мы с выбором удачным.
Альпийский луг цветы несет
В подарок новобрачным.
В их честь хозяйки под капель
Большие ставят бочки.
В их честь, – да славится апрель, –
В лесу стреляют почки!
А птицы песни им поют
На все лады и трели
И гнезда маленькие вьют:
В апреле, как в апреле!
От умиленья горный снег,
Как старец, прослезился
И сразу в десять звонких рек
На склонах превратился.
Жених с невестой между тем
Сошлись на гребне дальнем.
И солнце кажется нам всем
Кольцом их обручальным.
Летят, курлыча, журавли,
Спешат – не опоздать бы, –
У Небосвода и Земли
Апрель – начало свадьбы!
ЗИМА
В Москве клубится нынче снег,
Пришла пора белеть порошам.
Машины замедляют бег,
И ветер бьет в лицо прохожим.
Любя мороз, как москвичи,
С тревогой думаю невольной:
Хватает дров ли для печи
В горах учительнице школьной?
Еще я думаю про то:
Тепло ль в больнице Касумкента?
И есть ли зимнее пальто
В Москве у каждого студента?
Я взгляд бросаю из окна
Сквозь набегающие дали,
И на лице у чабана
Я вижу тень его печали.
Быть может, выбившись из сил,
Он под седыми небесами
На палку голову склонил
С заиндевелыми усами.
Ужель и там, у горных рек,
Трава засыпана снегами
И овцы разгребают снег
Кровоточащими губами?
Ужели нынче в январе
Тур не берет в горах подъемы
И бредит, гордый, на заре
О маленьком клочке соломы?
Но коль в трех метрах от жилья
Он свесит голову понуро,
Аварец не возьмет ружья,
А сено вынесет для тура.
Ужели там, где облака
Бредут дорогою небесной,
В безмолвье горная река
Висит, застывшая над бездной?
Я был актером.
Мне ль не знать,
Что, несмотря на пламя танцев,
Не сладко пьесы итальянцев
В холодном здании играть.
Сейчас, быть может, среди гор
Идет комедия Гольдони
И перед выходом актер
От стужи дует на ладони.
Я взгляд бросаю из окна.
Зима, но за ее погодой
Мне вся Абхазия видна
С ее изнеженной природой.
Ужель, не страшный для берез,
Опять придя в ее районы,
Погубит северный мороз
Неосторожные лимоны?
Как тяжело наряд сейчас
Нести бойцу погранотряда.
Моя душа тепла запас
Ему отдать сегодня рада.
Своим теплом желаю я
С друзьями честно поделиться.
Прошу вас взять его, друзья,
Оно вам может пригодиться.
НАСЛЕДСТВО
В домах горожане уснули,
Погасли огни в горсаду,
Читая названия улиц,
Я городом сонным иду.
Я имя «Махач Дахадаев»
Прочел на углу за стеной,
И вздыбилась лошадь гнедая –
Стальной военком предо мной.
В атаку за город он скачет,
И город, который не сдал,
Овеянный славой Махача,
Не городом – крепостью стал.
...Буйнакская в блеске последних
Еще не погасших огней.
Кумык двадцативосьмилетний,
Я вижу, проходит по ней.
Воспетый в сказанье и песне,
Услышанный мной в тишине,
Идет мой герой и ровесник
(Уже двадцать восемь и мне).
И встретил я имя Оскара,
Пройдя по Буйнакской квартал:
В те годы его комиссаром
В республику Киров послал.
Оскар с Улубием в предместья
Врывались под гром канонад...
Друзья, и теперь они вместе:
Их улицы рядом лежат.
Так что ж это: улиц названья
И стены да камень кругом?
Иль снова в ночи заседанье
Созвал Дагестанский ревком?
И снова работа, работа,
И темень – не видно ни зги,
И снова из-за поворота
Нацелились в спину враги.
Тьма ночи редеет и тает,
Роса оседает в саду,
Названия улиц читая,
Как будто бы книгу листая,
По городу молча иду.
Вокруг тишина:
ни прохожих,
Ни дальних гудков с кораблей.
Спит город родной мой, похожий
На песню о славе своей.
У КУБАЧИНЦЕВ
У кубачинцев нынешней весною
Я наблюдал, как тонко и хитро
Вплетает мастер кружево резное
В черненое литое серебро.
Стекло очков вооружает зренье,
Нетороплива чуткая рука.
В глазах – любовь,
а в сердце – вдохновенье,
Крылатое, как в небе облака.
Придя к нему, вы увидали б сами,
Что мастер верен до конца себе.
Спины не разгибает он часами,
Чтоб новый знак родиться мог в резьбе.
А если ошибется ненароком
И знак резцом неверный нанесет,
То загрустит в молчании глубоком
И всю работу сызнова начнет.
И, славы кубачинцев не нарушив,
Он вновь блеснет высоким мастерством,
Которое волнует наши души
И кажется порою волшебством.
Чтоб дольше жить могло стихотворенье,
Учусь, друзья,
то весел, то суров,
Иметь я кубачинское терпенье,
Взыскательность аульских мастеров.
ПОЭЗИЯ
Бывает работа, после работы – отдых,
Бывает поход и привал на десять минут.
Ты для меня и поход, и привал во время похода,
Ты для меня и отдых, и каторжный труд.
Песней была колыбельной, дремала в моем изголовье,
Была ты мечтою о подвиге и о весне.
Ты для меня родилась вместе с моей любовью,
Но вместе со мною любовь родилась во мне.
Был я мальчишкою, матерью ты мне казалась,
Любимой мне кажешься нынче, а стану седым –
Дочерью будешь беречь мою старость,
Сгину – ты памятью станешь над прахом моим.
Порою ты кажешься мне неприступной горою,
Порой ты мне кажешься птицей, послушной, ручною,
Ты – крылья в полете моем, ты – оружье в борьбе,
Все для меня ты, поэзия, кроме покоя.
Хорошо ли, не знаю, но верно служу я тебе!
Где же кончается труд и начинается отдых?
Где же поход, где привал на десять минут?..
Ты для меня и поход, и привал во время похода,
Ты для меня и мой отдых, и каторжный труд.
ГОРНЫЕ ОРЛЫ
Жаворонки в небе зазвенели,
А в саду, что зелен и ветвист,
На заре опять выводит трели
Соловей – заслуженный артист.
Над дверною балкой, где прибита
Старая подкова, как всегда
Две касатки юных деловито
Заняты строительством гнезда.
А голубки утренней порою
Так своей сияют белизной,
Словно это школьники гурьбою
Собрались на вечер выпускной.
Полон край мой силы и величья,
Полон птиц, чьи песни веселы.
И парят над ним, как боги птичьи,
Много раз воспетые орлы.
Для того чтоб в небе их видали
На посту и в грозовые дни,
Скалы неприступные избрали
Грозным местожительством они.
То один поднимется и гордо
Рассекает крыльями туман,
То, как по тревоге, вся когорта
В голубой взмывает океан.
Над землей плывут они высоко,
Будто стражи зоркие ее,
И, услышав их гортанный клекот,
Прочь летит в испуге воронье.
И готов, как в детстве, я часами
Там, где выси гор всегда белы,
Наблюдать влюбленными глазами,
Как парят могучие орлы.
То стоят в дозоре над горами,
То в степные двинутся края...
Самых смелых горными орлами
Называет родина моя.
У ОЧАГА
Дверцы печки растворены, угли раздуты,
И кирпич закопчен, и огонь тускловат.
Но гляжу я на пламя, и кажется, будто
Это вовсе не угли, а звезды горят.
Звезды детства горят, звезды неба родного.
Я сижу у огня, и мерещится мне,
Будто сказка отца вдруг послышалась снова,
Песня матери снова звенит в тишине.
Полночь. Гаснет огонь. Затворяю я дверцу –
Нет ни дыма, ни пламени, нет ничего.
Что ж осталось? Тепло, подступившее к сердцу,
Песня матери, сказка отца моего.
ПТИЦЫ
Мустаю Кариму
Всякий раз, когда в лес я входил среди дня,
Голосами звеня, вы встречали меня.
На рассвете будило меня «чиу-чи»,
«Чиу-чи», – раздавалось в бессонной ночи...
Но спросить вас, пичуги, хочу я давно:
«Чиу-чи, чиу-чи» – что же значит оно?
Может, так вы друг другу клянетесь в любви,
Колыбельные песни поете свои
Или праздничный гимн ваш звучит в тишине?
Птицы, милые птицы, поведайте мне.
«Чиу-чи, чиу-чи», – зашумели ключи,
Горячи, заливают всю землю лучи.
В белой пене цветов плещет море садов.
«Чиу-чи, чиу-чи» – сочетание слов?
«Чиу-чи» – не могу я значенья понять.
«Чиу-чи» – но не в силах волненья унять.
Птицы, милые птицы, бывало не раз,
Что от критиков мне попадало за вас,
Я услышал немало придирчивых слов,
Что в стихах моих много и птиц и цветов.
Только как же из песен вдруг выгнать мне вас,
Если птицами полон цветущий Кавказ,
Если все утолки моей мирной страны
Щедрым щебетом птичьим до края полны!
Пусть поют мои птицы в тенистой листве
На далеком Урале и в милой Москве,
Пусть всегда на заре, среди дня и в ночи
Мир зеленый звучит: «Чиу-чи, чиу-чи».
ТЫ ЛЕТА ЖДЕШЬ, ДОРОГАЯ МОЯ!
Весь в белом, на белом коне без поводьев
Мороз прискакал – и сейчас же за дело!
Скакун его белый все взвихрил, все поднял,
Обрызгал все улицы пеною белой.
Я слышал свистящую скачку метели.
Я видел, в снегу утопает столица,
Но мысли к тебе, дорогая, летели,
Как в жаркие страны озябшие птицы.
Я знаю, тоскуешь опять обо мне ты
И в зимние ночи не спишь до рассвета.
Сидишь у огня, вспоминаешь приметы:
Чем злее метели, тем ближе до лета.
А летом, в июле, окончив ученье,
Приедет твой сын на побывку в селенье.
Ты слышишь мой голос на вьюге тревожной,
Метель тебе кажется пылью дорожной.
Но я далеко от тебя, далеко я.
Меж нами хребты в одеянье мохнатом.
Что мне написать, чтоб тебя успокоить,
Как надо мне жить, чтоб спокойной была ты?
Я знаю, птенцы улетают в полет
И старая птица в гнезде не живет,
А следом летит за далекие кряжи,
Она уж слаба, а птенцы ее ловки,
Она не прибавит им сил, но укажет,
Где надо подняться, где сесть для ночевки.
Нет крыльев у мамы, но сердце крылато,
Так как же мне жить, чтоб спокойной была ты?
Тебя успокою ли тем, что порою
Я, правды придерживаясь не строго,
Свои от тебя огорчения скрою
И радости преувеличу немного?
Кружатся снежинки, и лето не скоро.
И горный аул наш далек от столицы,
И в эту морозную вьюжную пору
У нас в общежитье мне тоже не спится...
...Ты все мне дала: ты в далеком селенье
Меня родила и в тряпье пеленала,
Вставала у люльки моей на колени,
Жалела, кормила, собой укрывала.
И тело мое, что сколочено крепко,
И мир, что вокруг бесконечен и ярок,
И сердце, которому больно нередко, –
Ты все вместе с жизнью дала мне в подарок.
Так чем отплачу я тебе, дорогая,
Какими стихами, какою работой?
Мне хочется быть, а смогу ли, не знаю,
Достойным тревоги твоей и заботы.
Спасибо, спасибо за то, что когда-то
У люльки моей не спала до рассвета,
Спасибо за то, что опять у огня ты
Не спишь и считаешь недели до лета.
И лето настанет, куда ж ему деться?
Приеду я, черный от пыли и зноя,
Себе возвращу я до осени детство,
Покой для тебя привезу я с собою.
СТУДЕНТЫ
Я с ребятами встречи жажду,
Загрустил по студентам я.
Вместе все и отдельно каждый
Предо мною встают друзья.
Что мне надо?
Отвечу вкратце:
Пусть, как прежде, звенит звонок,
Чтобы снова нам вместе собраться
Хоть на самый короткий срок.
Даже пусть без стихов по кругу,
Без экзаменной кутерьмы.
Только в лица взглянуть друг другу,
И на то б согласились мы.
Были общими наши планы,
Общей радость была и беда,
И сердца наши и чемоданы
Без замков оставались всегда.
В мире было студентов немало,
Но, пожалуй, с древнейших дней
Курса лучшего не бывало,
Не бывало ребят дружней!
Пусть один был ленив немного,
А иной болтливей других,
Но к последнему курсу, ей-богу,
Удалось нам исправить их.
Был один из нас скуповатым,
Но и он не принес нам зла.
Ну а в целом какие ребята,
И какие были девчата,
И какою пора была!
Я по ней стосковался смертельно,
Загрустил по ребятам я.
Вместе все и каждый отдельно
Предо мною встают друзья.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАРПЛАТА
Мы цифрами не утруждали память
И не копили денег про запас.
Порой сберкассой мы бывали сами
Для тех, кто мог ссудить десяткой нас.
Как ты светла, студенческая бедность,
Обед в столовке и веселый пир,
Когда без удержанья за бездетность
Стипендию нам выдавал кассир.
Ее мы с нетерпеньем ожидали,
По пальцам мы высчитывали срок,
И в общежитье кто-нибудь едва ли
Нас в выплатные дни застать бы мог.
Наперебой стихи читая, споря,
Мы возвращались в институтский сад
В тот час, когда и по колено море,
И все равно – ты беден иль богат.
Как ни скромна стипендия, а все же
Мы были завсегдатаи премьер,
Хотя в последний ярус, а не в ложи
Ходили, на студенческий манер.
На стадионе и зимой и летом,
Преодолев десятка два преград,
Увы, согласно купленным билетам,
Мы занимали свой последний ряд.
Но, даже всю стипендию растратив,
Не ныли мы, что плохи, мол, дела.
Мы пели.
О студенческой зарплате
У нас и песня сложена была.
Мы кончили учебу, вышли в люди,
Но помним прежнее житье-бытье,
И помним помощь родины, и будем
До гроба благодарны за нее!
НА СВИДАНЬЕ
Настежь дверь! Как угорелый
Он ворвался в общежитье,
Весь сияя,
будто сделал
Величайшее открытье.
Танцевать пошел вприсядку:
Разгадайте, мол, загадку.
«Друг, не мучай, сделай милость,
Расскажи нам, что случилось?»
И сказал он:
«У Арбата...
Час назад... Счастливый случай...
Познакомился, ребята,
Я с москвичкой самой лучшей!
В шесть пятнадцать я назначил
Ей свиданье на бульваре...»
И немедля бриться начал
Сумасшедший этот парень.
Принялись друзья за дело:
Взял утюг приятель в руки
И за пять минут умело
Жениху погладил брюки.
Кто-то взял его ботинки,
Дал им вдоволь гуталина:
На ботинках –
ни пылинки,
Оба
как из магазина.
Вот студент побрит на зависть.
И друзья,
вступая в споры,
Одевать его принялись,
Как артиста костюмеры.
Он примерил семь сорочек:
Выбор сделан был удачный.
«А теперь вложи платочек
Уголком в карман пиджачный!»
Киевлянин чернобровый,
Костюмеров возглавляя,
Быстро снял свой галстук новый,
Другу на вечер вручая.
Предложил узбек услугу:
Тюбетейку даст он другу.
Но решили тут в народе,
Что для данного этапа
Тюбетейка не подходит
И нужна студенту шляпа.
Два целковых на дорогу
Сколотили понемногу
И притом советы дали,
Как вести себя вначале:
Пусть студент не забывает
Опоздать минуты на три,
А затем пусть побывает
С ней в кино или в театре.
Вот окончились все сборы,
Прекратились шутки, споры,
И, вздохнув, сказал тревожно
Однокурсник самый скромный:
«Жаль, мой друг, что невозможно
Заменить твой нос огромный…»
Ах, зачем я так беспечно
Повторил вам эту фразу:
Вспомнив нос,
себя, конечно,
С головой я выдал сразу.
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Новогодней полночью седою,
Стременем серебряным звеня,
Старый всадник с белой бородою
Слез в пути с крылатого коня.
Посмотрел на все моря и земли,
Улыбнулся тихо и светло.
В этот самый миг его преемник
Быстро сел в походное седло.
И когда в дали голубоватой
Всадники, как братья, обнялись,
Словно на вершине циферблата
Стрелки на двенадцати сошлись.
Отозвались тонкие бокалы,
И, прошедший тысячи дорог,
Старый год перешагнул устало
Молодой истории порог…
…Бой часов плывет под небосводом.
В окнах свет не гасят города.
«Дорогие люди, с Новым годом!
Будьте в жизни счастливы всегда!..»
Новый год пришел к нам, убеленный
Первым снегом, а не сединой.
Будет он сиять красой зеленой,
Бить о берег теплою волной.
Зашуршит багряною одеждой
Вдоль тропинок, речек и дорог,
Провожая с лаской и надеждой
Озорных мальчишек на урок.
Жизнь возвысит в чувствах благородных
И в судах (счастлив его удел!)
Сократит число бракоразводных
И других не к чести нашей дел.
Выдаст замуж девушек влюбленных
И, гордясь собою неспроста,
Имена детей новорожденных
Многим людям впишет в паспорта.
И, быть может, щедрый, яснолицый
(Ведь ему все подвиги под стать!),
Уроженцу Вешенской станицы
Он роман поможет дописать.
II опубликует повсеместно,
Искупая прежние грехи,
Авторов порою неизвестных,
Но зато хорошие стихи.
В честь его пришел я в гости к другу.
Никому сегодня не до сна.
В этот час торжественно по кругу
В доме горца ходит рог вина.
Виноделы так горды сегодня,
Будто только им благодаря
Отмечают праздник новогодний
Люди на исходе декабря.
Почта пробирается снегами,
Чтобы в срок, хоть тропы замело,
Нам вручить замерзшими руками
Телеграмм сердечное тепло.
Значит, стали старше мы немного.
Времени нельзя остановить
(Но прошу, друзья, вас, ради бога,
Женщинам о том не говорить)...
Будем же, товарищи, трудиться,
Засучив по локоть рукава,
Чтобы не пытались расходиться
С добрым делом мудрые слова.
Пенится вино в моем стакане.
Тот, кто выпил, пусть еще нальет.
Пьем за исполнение желаний,
Не боясь загадывать вперед.
* * *
Я это помню, как сегодня:
Мне – восемнадцать лет всего,
И я пишу ей писем сотни,
Чтоб не послать ни одного.
Я столько вкладывал старанья,
Терпенья, мужества и сил,
Боялся знаков препинанья
И непокорности чернил!
А вдруг она найдет ошибку?
Переживаний не поймет?
И чуть заметная улыбка
Скривит ее красивый рот?
Слова, отысканные ночью,
Гасил безбожно свет дневной,
Надписывал я адрес точный
И – рвал все строчки до одной.
Прошли года . Но мучит совесть
Меня, что ровно я дышу,
Что я живу, не беспокоясь,
Что письма без труда пишу,
Легко народу адресую –
И строчки мне не жгут ладонь,
Что на заре в клочки не рву я
И не бросаю их в огонь!
ПОСЛЕ ТОГО КАК ГОСТИ УШЛИ
Я вновь один в умолкнувшей квартире,
Ушли друзья и ты, мои лучший друг.
И стала комната казаться шире.
Вот круглый стол – и никого вокруг.
Уже рассветом воздух чуть подсвечен,
Уже огни погасли у крыльца,
И вновь я в памяти прошедший вечер
Перелистал с начала до конца.
Кто с кем сидел, за чье здоровье пили,
Какую песню спели лучше всех,
Как опоздавшему домой звонили,
Как после он вошел под общий смех.
Все видел, но не выдал никого я:
Ни тех, кто в рюмки подливал воды,
Ни тех, кто, в стопках уровень удвоя,
Пил, не дождавшись знака тамады.
Кто весел был, кто грустен – все я помню…
Друзья мои, семья моя, родня,
Как вместе с вами было хорошо мне,
Как рано вы покинули меня!
В родном краю, где облака и горы,
Пусть не бродил я ни с одним из вас,
Пусть были средь гостей друзья, которым
Пожал я нынче руку в первый раз.
Мне кажется, рожден я вашим братом,
И вместе обошли мы полземли.
Какие вы хорошие ребята,
Как жалко, что так рано вы ушли,
Что тишина, что никого вокруг,
Что нет тебя, мой самый лучший друг!